Война умов
Вы думаете, если не владеете дорогим брэндом и не занимаетесь передовыми технологиями, то ваш бизнес находится в глубоком тылу? Не заблуждайтесь: патентная агрессия может быть развязана против любого бизнеса, который хоть что–то производит, хоть что–то продает, хоть под каким–то названием. То есть против любого.
Главный принцип этой войны знаком каждому рядовому: не важно, кто первый придумал, важно, кто получил патент (свидетельство). В современном цивилизованном бизнесе исключительные права на интеллектуальную собственность - единственный разрешенный государством способ монополизировать рынок, санкционированное законом оружие массового поражения для конкурентов. Это и объясняет ярость и ожесточение патентных баталий. Как говаривал незабвенный Эдвин Лэнд (1909–1991), создатель "Поляроида" (корпорации и фотоаппарата): "Единственное, что сохраняет нашу жизнь, - это наша исключительность. А единственное, что сохраняет нашу исключительность, - это патент". Закаленному в боях патентному маршалу и талантливому изобретателю следует верить: он знал толк в монополизации, поскольку защитил свои моментальные фотоаппараты такими фортификационными сооружениями (у него лично было более пятисот патентов!), что разрушить их не смог ни один супостат. Для корпорации Eastman Kodak вторжение на территорию Эдвина Лэнда и более чем десятилетняя борьба в судах закончились разгромом: в 1990 году суд обязал Kodak заплатить "Поляроиду" 454 миллиона долларов компенсации и 455 миллионов долларов в качестве упущенной выгоды, что до сих пор считается рекордной выплатой за нарушение исключительных прав.
Если конкурент нащупает брешь в вашей интеллектуальной обороне, то он сможет:
- запретить вам производить, экспортировать или импортировать что–то;
- добиться аннулирования регистрации вашего товарного знака;
- паразитировать на вашем товарном знаке;
- отнять ваш домен в Интернете.
А также совершить массу других отвратительных действий - просим заметить! - без нарушения действующего законодательства.
Впрочем, справедливо и обратное: вы и сами можете задать конкуренту аналогичного жару... "Бизнес–журнал" не призывает читателей сутяжничать, но считает, что знать стратегию и тактику патентных агрессий полезно в любом случае.
Засада на импортера и экспортераВаша компания ввозит в Россию какой-нибудь товар из–за рубежа? В один далеко не прекрасный момент вы можете обнаружить, что в России выдан патент на полезную модель, который полностью описывает техническую суть вашего товара. Вам заявит об этом "зловредный" обладатель патента, а потом докажет в суде, что вы нарушаете его права, и добьется, чтобы вы прекратили торговать контрафактной продукцией. Это может быть спланированной акцией конкурента, диверсией патентного вымогателя или искренним возмущением изобретателя–одиночки. Но ведь вам–то от этого не легче?
Значит, вам объявлена война! Аналогичный патент на полезную модель, который имеет ваш партнер - иностранный производитель в своей далекой стране, выиграть дело не поможет: патент действует территориально. Что делать?
- Придется встречно аннулировать патент оппонента, - говорит Галина Андрущак, директор ЗАО "Патентный поверенный". - Нужно будет доказывать, что у него отсутствует новизна, предоставлять суду российские или зарубежные публикации, которые описывают этот прибор или технический принцип его действия. Либо доказывать факт открытого применения, то есть что прибор применялся или был ввезен в Россию до даты приоритета полезной модели оппонента.
Борьба затянется на срок от полугода до нескольких лет. Причем вполне может так случиться, что ваша правота покажется суду не очевидной, и решение будет вынесено не в вашу пользу. Тогда суд назначит вам санкции, истребовав финансовую отчетность и определив объем ввезенной и реализованной контрафактной продукции.
И речь идет не только о технике и сложных приборах. Атака может быть направлена на совершенно безобидные маркетинговые "фишки", использованные производителем в товаре.
Очень показательно, например, недавнее "Дело о холщовых мешочках". У компании "Империал ВИН–М" (надо полагать - "совершенно случайно") оказался патент на промышленный образец "бутылки, помещенной в чехол из мешковины, который выполнен в виде трубы, открытой с обеих сторон, с куполообразным отверстием для обзора этикетки". И вот ведь незадача: вино, которое импортировала в Россию компания "Лудинг", как раз упаковывалось именно в такие "чехлы". Решение арбитражного суда, с которым затем согласились суды высших инстанций, было таково: запретить "Лудингу" ввозить, хранить и продавать подобную продукцию. Так что отныне в привычных покупателю мешочках на прилавках магазинов будут, скорее всего, щеголять бутылки другого импортера.
Наши экспортеры тоже частенько демонстрируют беспечное отношение к своей интеллектуальной собственности. Как правило, при выходе на зарубежный рынок они, в лучшем случае, регистрируют свой знак и не думают о дальнейшей патентной защите. Их логику понять можно. "Ну, собираюсь я торговать в Папуа - Новой Гвинее, - рассуждает экспортер. - Зачем сразу платить пять тысяч долларов и более за какой–то патент? Может, я на столько там и не наторгую!" Начинает поставки, раскочегаривает рынок, приучает тамошнего потребителя к товару. И тут - бах! - находится ушлый папуас (а их еще наш Миклухо–Маклай за сметку хвалил) или экспортер–конкурент из наших же, российских, и, откуда ни возьмись, извлекает патент…
- Не важно, каким образом экспортеру закроют рынок: по товарному знаку, промобразцу, изобретению или полезной модели, - говорит патентный поверенный Вадим Усков. - Главное, что оппонент получит на себя право на объект интеллектуальной собственности, охранную грамоту. И вы будете потом долго - год, два и более - судиться. Даже если повезет и выиграете, то за это время можно потерять рынок.
Будьте начеку: "диверсанты–изобретатели" не дремлют и, может статься, уже точат на вас свой разящий патент.
Дилер: фланговый обходИностранные производители тоже иногда расслабляются. Не рассматривая российский рынок как основной для себя, они могут позабыть зарегистрировать в России свой товарный знак. Если вы - российский дилер как раз такого производителя, то вас вполне может посетить "блестящая" идея зарегистрировать его товарный знак на себя. Известный перехватчик брэндов Сергей Зуйков, например, даже подводит под таковое деяние определенную моральную базу: дилер, мол, тратится на продвижение товара на национальном рынке, так зачем же ему раскручивать "дядин" товарный знак, если можно сделать его своим? От перспектив, открывающихся после такой "приватизации", дилеру впору впасть "в упоительное состояние перед вышесредним шантажом", как называли это Ильф с Петровым. Со свидетельством о регистрации в кармане дилер, казалось бы, может разговаривать с позиции силы со своим зарубежным контрагентом, например "пододвигать" по цене ("А не то мы вам сейчас ка–а–ак закроем российский рынок! И ка–а–ак начнем сами производить товар под этой маркой!"), или с коллегами - другими дилерами ("Не имеете права торговать товаром под моим товарным знаком!").
В самую ожесточенную фазу сейчас вступила, например, более чем пятилетняя "паштетная" война между российским холдингом "Гурман" и бельгийской компанией Mortier Catering. Глава холдинга Руслан Пашков сделал российскую регистрацию товарного знака Mortier на одну из своих компаний, а в мае нынешнего года начал выпускать продукцию под этой маркой.
Помышляющим встать на такой скользкий путь следует знать, что способ не нов, известен с позапрошлого века, и международное право давно уже выработало противоядие. Парижская конвенция по охране промышленной собственности в статье 6 ("Знаки: регистрация агентом или представителем владельца без разрешения последнего") все расставляет по своим местам: "Владелец <знака designtimesp=16951 designtimesp=7035> имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования … если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия". Эксперты утверждают, что соответствующая судебная практика возникла уже и в России, так что захваченный дилером товарный знак возвращается зарубежному владельцу достаточно легко, если нет усложняющих дело обстоятельств, как в случае с Mortier. Просто доказывается, что между спорящими сторонами существует или существовала связь как между агентом и принципалом.
16.01.2006










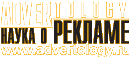
Комментарии
Написать комментарий