Лифт в Вавилонской башне

Несколько мистериальных проектов нынешнего сезона посвящены языку, с помощью которого создается миф и традиция, личность и этнос, ландшафт и вещь, письмо и время.
Обращение к языку - детскому лепету, бреду, зауми, трэшу, псевдообряду и импровизационному жесту в ряде проектов осени-зимы обнаружило для зрителей чистую, молекулярную, логотипическую структуру мифодизайна, разворачивает палитру его инструментов, приоткрывает механизм творчества и творческой рефлексии. Не подлежащий дешифровке, но подлежащий реинкарнации миф не смешивает языки, образуя языковой хаос, но сопрягает идиомы, собирая вложения в «Банк Мистериал». Проекты будут продолжены, так что, думаю, шанс увидеть все достаточно велик.
Немного абстракций Идентичность, лежащая в основе мистериальной личности, драмы, жеста, слова, звука, ландшафта - это свободная от четких идентификаторов структура, поле сил, внутри которого происходят свободные колебания всевозможных оппозиций от жесткого «да-нет» до мягкого «такой-сякой». Богатство затронутых смыслов составляет потенциал мистерии. В личностном плане мистерия предстает как точка схода максимальной ответственности (концентрации) и максимальной свободы (импровизации). Миры с подобными характеристиками нанизываются на условную ось времени, актуализируя не календарь, но маятник. Будучи сфокусирована не на объектах, а на отношениях, мистерия и является Эйнштейновым лифтом в Вавилонской башне бытия. Внутри мистерии действует интегральный закон коммуникации, который встречаем в числе Фибоначчи, во фрактальном развитии растений (т наз филотаксис), в гармонических правилах графического дизайна, в древних ритуалах...
Лифт 1. «Отдаленная близость»
Начнем со спектакля, который можно будет посмотреть в ближайшем будущем, а именно, 14 марта в «Центре драматургии и режиссуры» на Беговой. Это «Отдаленная близость», работа русского и немецкого режиссеров - Андрея Афонина и Герда Хартмана. В спектакле заняты особенные артисты - с диагнозом ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью, проблемами психического здоровья, нарушением опорно-двигательной системы).
Нечасто случается, чтобы театр инвалидов выступал в качестве более широком, чем инфраструктура, условно говоря, пандус или поручень для развития «убогих» или «простодушных». Чтобы он не внушал лишь пресловутой толерантности к «братьям меньшим», но решал художественную задачу. "Отдаленная близость" представляет «особенного» человека как обнаженную структуру, «тонкое тело» человека как такового.
Главным герой спектакля - обнаженное сознание. Его хрупкие очертания становятся очевидны на тектонических разломах осмысления - восторга и отчаяния, откровения и рефлексии. На такой границе и тело - погранично, мы наблюдаем, как оно расслаивается и собирается, тонет в гармонии и упирается костями конфликта. Графика тел и речи "особенных" актеров оказывается феноменальной и универсальной, их дневниковые монологи звучат не слабее суфийских касыд, египетских гимнов или даосских притч.
Прислушаться - кажется, детский наив пополам с трэшем: тут вам и дачные радости (в саду растут цветочки!) и сказочный бред (про таракана Григория Константиновича), и удушливые кошмары (я не умер, и меня не хоронили), и тихий ночной полет на степном ветру, и любовь, и смерть, и козявка в носу и пирожок с капустой. Но соринка при наведении на нее ОВЗ-линзы вырастает до бревна, так что даже очистить картошку - философская проблема. Умствования бледнеют перед простым предметом, как блендер перед ножом.
«Дядя Юра таскает дрова в старый дом. На крыше дядя Юра сбрасывает снег. Это снежная дорога. У биседке снежный сугроб. Я таскал навоз в субботу а потом был ужин при свечах» - восторг, удивление, благоговение перед Бытием.
Мы приникаем к замочной скважине в собственной голове и удивляемся тому, как глубок и мощен, прекрасен и монструозен не вписывающийся никуда новорожденный смысл. Инвалиды учат здоровых людей правде слова, звука и жеста, а те, взамен, поддерживают их, как мышцы, сообщая выносливость. Так и работают - обертонными, мерцающими парами близнецов «патология-норма», будто дух и тело, тонкая и толстая оболочка, содержание и форма. Долгие месяцы, дни и часы репетиций, выявления и закрепления образов, но без этой «патологической» основы ничего бы не возникло, вот в чем вопрос.


Пары «здоровый-больной» образуют молекулы - девичьего мира, мужской войны, любовный тандем и еще один - то ли детский, то ли... Они расщепляют и разыгрывают атомные монологи, из которых постепенно образуется... суп.
Говорят, кулинария - распространенный прием европейского театра, но тут все по-Леви-Стросу: из сырого, природного ощущения варится осознанный, игровой, культурный код. Всяк знает: суп можно переварить, и ингредиенты умрут. А можно недоварить. Результат - в руках режиссера. Но мы не думаем о нем, захваченные процессом.
Весело и страшновато - радоваться всякому явлению, как круглому, ядреному овощу. Теряться перед шелухой значений. Азартно кромсать и тасовать в тексте то и это. Отважно входить в нарисованный образ из темной бездны кипящего котла мнений, созерцать вываренную, безнадежно фальшивую маску сказанного - с нами это происходит в моменты потрясений, а «особенные» подвергаются этому ежедневно, как бомбежке. Не успевая задать вопросы - почему или за что. Вопрос о смысле жизни, залетевший в первые такты спектакля откуда-то из «нормального» мира, выглядит рядом с этим пресыщенной банальностью.
Тексты-монологи «Отдаленной близости», звуки (виолончель, голос, барабан, гармонь), движения черпаются из колодца спонтанных реакций. Затем отбираются, отрабатываются (сэмплируются) и укрепляются на драматургической структуре, которая старше, как старше веток - корень. Сегодня ритуальные каркасы свободны от атрибутов. Брехт, Гротовский - для Герда Хартмана и Андрея Афонина - рефлексирующее Станиславское «верю».
Кажется, героев несет ударной волной, и они вынуждены до конца все это прожить, будто Элиза из «Диких Лебедей» - доплести свои рубашки из крапивы. Профессиональные актеры закатили бы истерику и отравились. А ОВЗ-артисты непринужденно варят супчик, заново собирая пазл бытия. Единственная декорация спектакля - разборная зеленая картонка из кусочков - напоминает детскую головоломку. Костюмы угловатых персонажей - близкие оттенки тона. Собрать!
End is happy, суп разливается по тарелкам и поедается под импровизированную считалочку - ложка за ложкой, год за годом, день за днем, жизнь за жизнью. Так кормят воротящих носы от каши малышей. Для героев же каждое число отвоевано. Зрителям наливают тоже.
Коллективное заклинание весело, уверенно и провиденциально. Человек совершенен от природы и гармония неизбежна, как гравитация, слава Богу... Авторы текстов, пожелавшие остаться анонимными инвалиды, выводят зрителя на новый, уровень сверх- или пра-человеческой анонимности. Это двойная победа, ведь пока артисты проводят таким образом курс личностной реабилитации и крепнут от спектакля к спектаклю, мы двигаемся по своей траектории. Ведь зритель, как верно подмечено, ничего артисту не должен. И диагноз вдруг становится ключом к Откровению.
Телесный код в спектакле ключевой. "Особенное" тело - следствие родовой травмы или акушерской неосторожности - так же, как и мысль, удивительным образом отзывается на дух и практику сакрального танца, если рассматривать его в целом, как метод построения так называемого экстра-обыденного тела (об этом см у Эудженио Барбы и Никола Саварезе подробно - в книге «Словарь театральной антропологии», 2010).
Экстра-обыденное тело лишено целеполагания, поисков внешних источников энергии, причинно-следственных связей. Оно вообще не существует как объект, так как в его центре - условная точка динамического, плывущего равновесия, ось трансформации, спираль внутреннего развития, напряжение между противоположными направлениями и состояниями, которое возникает вообще до всякого внешнего движения. ОВЗ-телу как раз не до трюков, а значит - возврат к первоначалу облегчен. Нельзя сказать, чтобы «особенным» людям был несвойственен грех актерства, соблазн показать «умения», - говорит Андрей Афонин. Но травма - шанс докопаться до истины и, кстати, расстаться с не менее распространенным, чем страх перед инвалидом, инвалидопоклонством.
Идентичность - доказывает спектакль - традиционна, имманетнтна и универсальна, и может регенерироваться из какого угодно сора... Это она, а не «патология», конфликтует с окружающей средой и преобразует ее:
«Наступает сон разума, я и вселенная становимся одним целым, при условии что мой внутренний мир не испытывает конфликта с обществом. Если да то этот конфликт трансформируется в вспышки неконтролируемой агрессии к членам общества.
В этом смысле мой конфликт можно описать как борьбу добра со злом в моем внутреннем мире, что и приводит к появлению неадекватного поведения.
Если есть спокойствие и тишина в моем внутреннем мире и отсутствует конфликт с обществом, то я и вселенная становлюсь одним целым, с ее детской наивностью и верой в чудо, что опять приводит к странностям в моем поведении в глазах общества, если судить с позиции адекватного поведения.
Иногда эти состояния психики сменяют друг друга, вызывая в моем подсознании чувства любви и ненависти, спокойствия и страха. Я не постоянен в осознании и классификации своих чувств...» - таков неузнанный логотип обетованной земли. Все дело в том, чтобы эту узнаваемость повысить. «Отдаленная близость» достигает цели.

Несомненно, спектакль пытается решить задачу привлечения в театр и ОВЗ-зрителя - не заманить его с помощью мячиков, светящихся указок и приглушенных микрофонов на шоу про Бэтмена, как это практикуется сегодня на Бродвее, но завязать узел коммуникации из собственного материала. Повторим: это обратная перспектива, где инвалид - не прибавление к норме (продолжающееся пандусами и поручнями, в то время, как здоровые прорастают в космос нанотехнологиями), а обнаженный внутренний мир этой нормы, нуждающийся в расшифровке и укреплении внешних стенок, как нуждаются в мышечных покровах кости и сердце... За отстроенными пандусами и перилами, которые не помогли ни Медее, ни Калигуле, ни Эдипу, нас ждут совсем другие скрепы.
«Отдаленная близость» свидетельствует о многомерности мистерии, которая захватывает все, что дышит со всеми проявлениями и сообщает ему духовное измерение, или как говорят на Востоке, «присутствие». «Брендирует», - сказали бы рекламисты. Спектакль также показывает, что вследствие глубокой постановки и тонкой проработки «проклятых вопросов» бытия, мистерия не только оказывает целительное действие на аудиторию, но и обладает мощным потенциалом идентичности: после спектакля отношение зрителей к инвалидам (да и их отношение к себе самим) серьезно меняется. Теперь это не инвалиды, а талантливые артисты, труппа, этнос, который вбирает и зрителей. С, казалось бы, очень «проблемного» спектакля люди не уходят, более того, здесь можно смеяться, ибо все проблемы моментально присваиваются. Статус «особенного» сохраняется лишь по отношению к другой, материально-эволюционной, «бродвейской» интерпретации ОВЗ-человека как нуждающегося в техническом «продолжении» индивида. Несмотря на бесспорную необходимость инфраструктуры для территории, в том числе, территории тела, наличие этих двух доминант значимо: оно отражает сегодняшнее отношение к человеку, земле, культуре. Интересно и то, что лишь мистериальный (и шире - эстетический или сферический) подход обнаруживает это ценностное различие.
Лифт 2. «Арфистки в Аду»
С музыкальным лепетом инвалидов в «Отдаленной близости» работает вместе с другими музыкантами сын режиссера Иван Афонин, а сам Андрей Афонин - в ростовой фигуре божественного младенца (или гомункулуса?), в душной, тяжкой, полуслепой трэшевой оболочке выступает в другом проекте - спектакле Петра Немого «Арфистки в Аду» (мы писали о премьере на фестивале «Архстояние»).
Кстати говоря, играть Андрей должен, не представляя себе сверхзадачи действа, дабы не утерять спонтанности и чистоты жеста. Напротив, участники «Отдаленной близости» обо всем осведомлены. Эти взаимно-обратные режиссерские оптики держат энергетическое поле сакрального: максимальная свобода+ максимальная аскеза - фрактал, залог искреннего, глубокого высказывания в любой точке сакрального поля. Подобные связи между самодостаточными структурами существуют не только внутри проекта, но и между проектами. Мистерия не имеет единого центра, а в роли структурного каркаса каждый раз выступает то режиссура, то музыка, то роль, то реквизит. Взаимное наложение напряженных структур и дает мистериальный эффект влияния на подсознание.

Поиск «точек сборки» непрерывен и не ограничивается ни репетициями, не спектаклем, превращая мистерию в нечто вроде образа жизни с характерными устранениями границ между телом и духом, высоким и низким, сценой и зрительным залом. Еще немного о теле. Ближе всего сегодня к работе ОВЗ-тела оказался опыт буто - свободного движения экстра-обыденного тела в любом культурном ландшафте. Отец-основатель буто Тацуми Хиджиката запомнился ученикам двумя качествами: обращением к самой глухой японской архаике и феноменальной способностью к импровизации.
Преподаватель буто у труппы Андрея Афонина и участников спектакля «Арфистки в Аду» один и тот же - знакомый читателям OddDance-театр (Григорий Глазунов и Наталья Жестовская), сам же OddDance-театр - участник спектакля «Арфистки в Аду».
Интересно, что в контексте русской культуры буто явилось оппозицией не театру Но или Кабуки, а классическому балету, античные корни которой хорошо чувствовала, например, скульптор Вера Мухина.
Может быть, не случайно одной из кульминаций «Арфисток», показанных в феврале в центре Artplay, был «классический балетный танец» преображенной, «райской» души.
Но не все так просто: артисты буто-театра OddDance танцуют в спектакле души усопших, весь спектакль они интравертно двигаются, неведомо - в Ад или в Рай. Их сверхмедленная проходка контрастирует с «руническими», ломаными «ритуалами» адских существ под дирижерским руководством железного рыцаря, орудующего тяжелыми мечами в высоковольтном поле Тесла-машины. Ее звуки пронзительно режут переливающуюся сферу божественной литургической музыки Ираиды Юсуповой. Музыка в «Арфистках»- главный мистериальный каркас.


Текст представляет оппозицию из стихов Гете (спектакль играется по мотивам второй части «Фауста») и идиоматических импровизаций Вилли Мельникова - поэта-полиглота, который в перформансах своих оперирует идиомами более ста языков народов мира. В последней версии спектакля он еще рисует лингвогобелены. Стихи читаются мощными припевными речитативами, создавая лейденскую банку с высокой классикой в степени reclame на одном полюсе и этникой в степени logo с другой.
Также и драматургия, и саунддизайн представляют собой один многослойный хор наплывающих рефренов. Переходя в караоке, рефрен буквально «раздается» зрителям, как хлеб и вино. Долгий, исчезающий атмосферный шлейф заставляет всех петь по дороге домой «Санта Мария амор». Далее люди видят мистерию во сне, вспоминают через несколько дней, и этот "шлейф" совершенно иного рода, чем насвистывание полюбившегося мотива, хотя прекрасная песня в конце (чаще несколько тактов) - особый дар, композиторский конек и концептуальный итог всех произведений Юсуповой. Стоит специально понаблюдать за собой, слушая ее музыку, просматривая фильмы и медиаоперы: каждый раз вы остаетесь с крутящимся в голове вдохновенным шлягером. Критики отмечают редкую способность композитора работать с культурным слоем, переплавляя трэш разных эпох в охотно усваиваемую новую традицию. Отметим: это мистерия имеет особенность органически переваривать контекст и перевариваться контекстом. В случае с Юсуповой мы имеем дело с литургическим христианским посланием.
И, кстати, особое свойство мистериального саунддизайна «держит» актеров в ощущении внутренней сверхзадачи. Мы писали о премьере «Арфисток» на «Архстоянии -2012», с тех пор она была показана еще дважды, всякий раз меняя конфигурацию, мизансцены, персонажей и поворачиваясь к зрителю новыми гранями. В феврале 2013 она становится центральным действом мистериального триптиха «Язык. Дневник путешествующих».
Так же, как Ираида Юсупова в музыке, Петр Немой в сценографии опирается на яркие мазки - детали: то мотоцикл с фрицем в полной амуниции выкатит, то детскую машинку... Он называет это «создавать условия». То же, что происходит внутри электрического поля «условий», сего точки зрения, категорически неописуемо. Постепенно условия «Театрики» принимает и зрительный зал. Дети до года, разревевшись от утомления, всегда удивительно во-время хнычут, обогащая саунд, дети побольше подбираются ближе и первые бегут в финальную массовку, благо в спектакле задействован и маленький «театриканец» Егор Волков.
Термины «спектаклический театральный симулякр», придуманный Петром Немым для триптиха «Язык. Дневник путешествующих», как, собственно, и название его коллектива «Лаборатория Театрика», наделены концептуальными суффиксами «кажимостей», а причастие «путешествующие» заменяет отглагольное «путешественники», настаивая на ценности процесса, на рождение мистерии в момент мистерии. Стоит обратить особое внимание на этот «нейминг». Точно так же, как и музыка, и танец, мистериальная драматургия отстраивается сразу от двух стереотипов: цивилизованной классики и архаической аутентики. Черепастые головные уборы скребущих палками по струнам пианино арфисток в юбочках-веерах - мерцающий «постмодернизм». Вроде бы понятно, с какого чердака Немой «увел» тот или другой предмет или образ, но все вместе создает невообразимую клоунаду, пронзаемую высокой оперой и превращающую причину в повод. Вспомним людей с ОВЗ: смешные инвалиды смешно говорят о серьезных вещах. «Реинсталляция онтологического захвата через этимологическое сновидение», - утирает Немой нос критикам. «Медиаопера» - термин Юсуповой. «Этнос» - добавляет режиссер, имея в ввиду самый богатый из всего социологического набора вариант социального синтеза. Какой-такой этнос? - запоздало спросите вы режиссера, не так давно поставившего "Махабхарату".
Вместе с театриканкой Оксаной Собакой Петр Немой разыгрывает роли Маргариты и Мефистофеля, заменяя профессиональных оперных певцов. «Непрофессионалы» - мистериальный рычаг. В режиссерском ухе слово «театрика» должно звучать такой же девальвацией, как «импровизация» звучит в ухе композиторском. Это слово - для клубов и перформансов, детских утренников и хэппенингов. Собственно, театриканцы и не чураются. И Юсупова с успехом оформляет всякие «Инновации» и выставочные проекты. Однако вывод этого поискового, корнедобывающего концепта на большую сцену можно было бы назвать «новым словом» в современном театре, опере, танце, если бы об это «новое» тут же не споткнулся язык. Нового тут ничего нет. Мистерия - постоянно возрождающийся театр, его булькающий источник. Добавим - горячий источник. Источник питания. Кастрюля с супом.
Лифт 3. «Птицы»
Еще один интересный мистериальный ход - дать волю профанической зауми, спонтанному фонетическому идиоматизму, которым многие из нас предавались в детстве. Таков фильм Ираиды Юсуповой и Александра Долгина «Птицы», где почти отсутствуют профессиональные артисты и все диалоги ведутся на несуществующем, по ходу дела возникающем языке. Интересно и значимо, что условия оказались непривычными для поэтов и полиглотов. Зато обычные люди чувствовали себя как рыбы в воде, точнее - в фантастическом «аквариуме», который устроил на экране цифровой художник и аниматор Александр Долгин. Характерная черта Юсуповской мистерии и мистификации: все делается ради последнего смысла, последнего кадра, последней песни. Смысл «Птицы» - трагический, библейский. Контекст - художественный, трансформационный. Песня - победная, ангельская. О сценарии не ведает никто, кроме режиссера, доверяющего спонтанной реакции непрофессионалов и собственному концептуальному монтажу.
Ираида Юсупова - не режиссер монтажа, а режиссер-монтажер, точнее даже, композитор-монтажер, ведь «Птицы», как мы выяснили в специальном репортаже - киномедиаопера. И часть триптиха о языке путешествующих. Дальше только птицы природные, и в этом расширении мистерии в природное пространство виден концепт рождения, а не создания мира, антикреационизм. Пересоздание для Юсуповой-мистериографа - вы-рождение. Тонкая грань не заметнее, чем на фотографии для дорого глянца: есть Иное и Иное, как Символ и Симулякр, игра во имя или для. Главное для мистерии - не «запопсить», не уйти в шоу, удержать вертикаль, как говорят мастера буто, да и не только они. Фильм выложен в сеть.
Лифт 4. «Разговор животных»
Было бы странно, чтобы, имея в виду этнос, мистерия обошлась бы без фантастических «народных» обрядов и праздников - в «Отдаленной близости» и «Арфистках» присутствует трапеза, клубятся стихии, а вот спектакль «Разговор животных» полностью состоит из обрядов и хороводов. Здесь соединились «Лаборатория Театрика» Петра Немого, консерватроский ансамбль исторического танца Time Of Dance под управлением Наталии Кайдановской (хореограф спектакля), театр буто OddDance и знаменитый хор Дмитрия Покровского. Музыка и «народные распевы» Ираиды Юсуповой. Хор Покровского - единственный, кто может сегодня в России справиться с задачей псевдоаутентики, будь то «пролетарские» песни или «славянские» заклинания.
И если о контрасте танцев зверей и людей в этой постановке можно спорить (я бы вот противопроставила звериную, медленную пластику буто и человеческое ускорение), то музыка сомнений не оставляет: этнос налицо. Хотя определить, что за народ такой, невозможно абсолютно. «Мы», новая «Весна Священная». Зрители пускаются в пляс. В идеале - считает Петр Немой - танцевать должны все. Мистерия - это вирус откровения, лежащий в основе любого обряда - от простонародного шаманизма до христианства. Каждому - по орбите его.


Шахта «Сверлийцы»
Как уже говорилось, мистерия переваривает любой ландшафт, но бывают и предпочтения. Так, «Лаборатория Театрика» в последнее время стремится в поля, кинокамера Юсуповой-Долгина по-Булгаковски обживает квартиры и дворы. Опера Бориса Юхананова «Сверлийцев» на музыку Дмитрия Курляндского предназначена для индустриального пространства - она о вечном граде. Можно смело назвать «Сверлийцев» оперой-цивилизацией - со своим архитектурным ландшафтом, гражданами, каналами, гондолами, стульями и тюфяками, ритуалами и Писанием. Опера играется студентами курса «Мастерской индивидуальной режиссуры» Бориса Юхананова и поется нсамблем Questa Musica под руководством Марии Грилихес.
Связей с предыдущими проектами у «Сверлийцев» множество. Борис Юхананов, «птенец гнезда Васильева» - учитель Петра Немого, создатель стратегии непрерывно рефлексирующей импровизации и в театре, и в видеоарте, и в кино, и в актерско-режиссерской школе. К его «Фаусту» писала музыку Ираида Юсупова, теперь вот по мотивам второй части «Фауста» играются «Арфистки в Аду». Борис Юхананов успешно экспериментировал и с «особенными» актерами с синдромом Дауна, ОВЗ, решая с их помощью философские и богословские задачи (так, в одном из фильмов проекта «Дауны комментируют мир» актеры комментировали «Евангелие»). Многочисленные лаборатории и проекты, среди которых «Сад», «Ангелическая лаборатория» не только подняли в эфир облако мифологем, позже зазвучавших в проектах учеников и коллег, но и привели в конце концов самого режиссера к восприятию театра как инструмента изучения священного текста «Торы» (проект «ЛабораТория»).
Сверлия (от слова «сверло») - неземная цивилизация толкователей и толмачей таинственного первознака, зависла между настоящим, прошлым и будущим. Смыслы и толкования утекают по каналам свистящих в шланги гортаней и далее по каналам мерцающего града - то и Иерусалима, то ли Петербурга, то ли Венеции, чтобы, накопив критическую массу разрыва с первоисточником, пропасть в тенетах мистической мойры-Кружевницы, а потом вновь сконцентрироваться на дне прозрачных емкостей в виде чернильной синевы морской каракатицы и явиться безупречным и свободным начертанием.
Сверлийцы, «египетским» картоном застывшие космические антропоморфы, рассекающие вдоль по вытянутой сцене на гондолах, будто каретка пишущей машинки, уровняли дыхание и начертание, звук и запись в бесконечной ленте Мебиуса - плывущей слева направо, как осциллограмма, панораме волшебного города.
Если представить графических дизайнеров как этнос, это «Сверлийцы». Они на 85% состоят из синих и лиловых чернил, они начинают путь с рукотворных сюрреалистических рисунков Юхананова в духе Миро и Шагала, они тянут нежные звуки Курляндского, сплетая из них барочные архитектоны. Они предвосхищают самопотерю смысла в свободно усмиряющей конфликт стихии вечного, спиралевидного вопрошания «ты что сказать-то хотел?» (любимый вопрос Бориса Юхананова своим ученикам). Наконец, они пускают корни на Земле в виде ерничающих «простигосподей» и вот уже машут нам из Интернета беспардонно слипающимся хипстерским наречием. Сверлийцы - свободные тасовщики букв, тусовщики вконтактах, блаженные благосферы, их арии появляются титрами на черных цифровых панелях - читайте!
Водянистая Сверлия недвусмысленно и иронично претендует на последнюю утопию. Все супы сварены - в бокалах у сверлийцев лишь влага - продукт полного языкового распада. Все контексты освоены и переплавлены в сверлийский глобалистический биоморфный быт, весьма, кстати, близкий современному тренду в дизайне: гондолы, текстиль и костюмы, тюфяки, стулья из IKEA, дающие в разложенном виде букву «А», архитектура, книга. Юхананов соединяет одним каналом строгую ритуалистику и мистические возлияния Элевсинских мистерий с фантазмами об искусственном интеллекте Реймонда Курцвейля, предсказателя мобильника, 3D-очков, нано-техноогий и далее - эпохи духовных машин. «Сверлия» - порождение технического изобретения, некоего обетованного, архаического технопарка, сделанного в будущем и «проникшего» в прошлое и настоящее (подробности - в мифологическом трактате). Плывущая сценография изменяющегося Града есть непрерывное реформатирование виртуального ландшафта, переливающийся территориальный ребрендинг.




Опера далека от популярных шоу, как все предыдущие мистериальные проекты, но ей претит какой-либо «горячий» интерактив: «Сверлия» прохладна и герметична: ее общение с Землей (а оперы - с публикой) происходит по типу чернильницы-непроливашки - туда можно, а обратно - вопрос. И если проявление в той или иной степени имперсонального, надчеловеческого начала - характерная черта состоявщейся мистерии, то «Сверлийцы» меняют приставку «над» на «без». Не в смысле театра жестокости Арто и Кастелуччи (оказавших-таки влияние на замыслы, пластику, философию Бориса Юхананова), А в смысле замещения человека, его ненадобности вообще. Прибавим: Сверлия лишена иных мистериальных откровений кроме бесконечного формотворчества и ее вершины - сибаритства. Ей не свойственно генерировать энергию, и зритель засыпает, завороженный, как в березовом лесу или во время сладкой формалиновой атаки Конца Света.
Цитируем трактат:
4. Главное то, что Сверлия гибнет.
4.1. Гибнет, гибла и будет гибнуть.
4.2. Погибнет в будущем, погибала в прошлом и, одновременно, погибает в данный момент.
Кстати, с подобным, замешанным на торианстве, фантазме читатель уже встречался. Я имею в виду проект фантастического книгодизайна «Книга Беглецов. Тексты с комментариями» Петра Перевезенцева, показанный выставке «Худграф» в 2011 году. Напомним: итогом 10-летних археологических раскопок фантастической страны Копысы (сравним со Сверлией!) явился громадный законодательный палимпсест из все новых и новых ограничений. Неукоснительное следование запретам привело к катастрофическим разрывам в коммуникации и, в конце концов, книжная масса вытеснила копысян из жилищ, инициировав исход цивилизации из самой себя. Тема коммуникативного разрыва в осмыслении и толковании неких первоначал существует и у Юхананова, и у Перевезенцева.
Любопытная деталь «со стороны»: во время лекции на биеннале «Золотая Пчела-2008» известный израильский шрифтовик Дан Райзингер, которому волею судьбы нужно было заново изучать иврит, признался, что к современному пониманию дизайна его подвигла архаическая, дискретная структура еврейского алфавита: там отсутствовали гласные. Выходом из этого разрыва стала свободная пространственная и семантическая игра со знаками и блестящая карьера графического дизайнера.
Копысяне давления разрывающих коммуникацию предписаний не вынесли, хотя оставили по себе уникальные примеры «мертвых книг». Не выносят потери идентичности и герои «Отдаленной близости». Вот, как звучит один из монологов:
Сегодня дожди.
и с ночи, и с утра.
И я не спал
со вчера.
В комнате
очерчена
какая-то фигня,
я без я -
под ней подписано.
Это - ночь
на конце
карандаша бытия
выписывала
острой линией
меня
под
сопровождение
дождя
Совсем другое дело - Сверлия. Филигранная и окончательная переработка смыслов в блендере супертолерантного нано-сознания дает феерический вывод: тотальная конечность и периодический разрыв подразумевает тотальную же гениальность:
4.4 Вероятностный Потенциал - это сверх-способность, таящаяся в сущности человека и замаскированная его личностью; это возможность, шифрующаяся внутри, подобно спящему эмбриону даймона или гения
4.4.1. Пример дремлющего Вероятностного Потенциала - это постоянное везение индивида в той или иной сфере, неидентифицируемое им или ею как нечто предрасположенное к культивации и предельной разработке.
И сверлийский хор поет:
Есть бреши
В пустоши
Они же входы
Всходы
А также выходы
Породы
Пустота
Источник траты
Дýри
Одичанья
Плюс транс
Творящий
Струи излучений
Гнет промедленья
Изувеченный
Влеченьем
Не только виртуальным
Впрочем кто
Знает
Чем наполнено
Ничто
Далее неизбежна тема принца - очередного «последнего» гениального младенца, «alient-сверленыша», которому на сцене и читается-поется вся опера, для которого и пишется последняя райская книга, что-то вроде инструкции к кухонному комбайну Bosh или банковской карты Всевышнего. Младенец не просыпается.

Тоннель
Тут бы, на эсхатологической безмятежности сверлийского рая нам бы и остановиться, если бы не пришелся кстати еще один мистериальный проект, отворяющий посмертные каналы бытия там, куда вряд ли доберется по собственной воле сверлийский ментал - в глубине самой материи.
«Серия тоннелей - проносящихся и с остановками темных светлых всех цветов шершавых гладких узких огромных грязных чистых вонючих благовонных пустынных забитых толпами людей и трупов металлических каменных деревянных алмазных угольных с воздухом и без божественных демонических - сквозь внутрь вовне через кровеносные сосуды шахт метро бомбоубежищ шамбалы нервов шлангов проводов...» - пресс-релиз к видеоряду для концерта театра тибетского индастриала Purba. Его единственный артист Святослав Пономарев - фотограф, музыкант, поэт и перформер известен читателю Advertology (см. http://advertology.ru/article82062.htm, http://advertology.ru/article82125.htm). На сей раз он пригласил двух молодых музыкантов Антона Колосова и Никиту Королева и дал один из лучших концертов так называемого тибетского индастриала в культурном центре «Дом».
Запись концерта TONNELS можно послушать в сети, я же хочу остановиться на некоторых важных его характеристиках.
В противовес Сверлийским прозрачным водам вечного дискурса, тибетский индастриал погружает under ground, в поле материального распада, где близко слышен пульс земного ядра. Если Сверлия - меланхолично производит казус гениальности, то в катакомбах Purba отлетевшая от праха и лишенная персональности душа проходит путь Бардо, описанный в «Тибетской Книге Мертвых». Она далека от аристократического созерцания прозрачной субстанции виртуала, сибаритства на нежных частотах и озонового дыхания из шланга. Напротив, она несется по грубым катакомбам, выскакивая на слепящий свет, полная страхов и раздираемая страстями. Частоты низкие и сверхнизкие, в шланги и газовые раструбы Пономарев тоже дуть горазд, а бензобак с успехом заменяет в этот раз его огромный самодельный барабан.
Вместо сюрреалистических «комментов» - тибетские мантры, переходящие в какую-то невообразимую горловую и дыхательную «камаринскую». Дыхание сбивается, а то и вовсе останавливается - здесь, по свидетельству зрителей, можно вообще забыть, как дышать. И разряженность воздуха возникает как физическое, а не эстетическое ощущение.
Cloaca maxima для Пономарева - не трэш c гламуром, а единственная реальность, вызывающая художественный интерес. Но жесткий импровизационный бой и скрежет вдруг сменяется нежной меланхолией, где-то у Gimnopedia подслушанного рояля. Это и есть пустотное, осознающее тело Земли, знак ее Присутствия. Тибетский бон - одновременно пра-буддизм и пятая его школа, побуждающая человека «играть не играя» (это выражение Петра Немого начинает работать в полную силу, когда истлевает реквизит и «супом» становится сам актер). Камера удивленно зависает над покрытыми грязью и потерявшими четкость «останками», выявляет похожие на египетские формулы какие-то панковские граффити, вводя под кожу состояние космического покоя. Purba возвращает сознание к травматическим снам «Отдаленной близости», но с весьма существенной разницей: по тоннелю путешествует уже не хрупкая ОВЗ-структура, но идет неизбежным и единственно верным путем душа воина, бодхисаттвы, и степень любви и веры в лучшее перерождение прямо пропорциональная ужасу распада, является здесь изначально абсолютной величиной.


Святослав Пономарев - частый гость в культурном центре «Дом», следующий концерт 13 марта.
N.B! У мистерии есть один серьезный недостаток, присущий всему живому: с ней лучше всего общаться непосредственно, документировать создаваемую ей атмосферу и энергетику чрезвычайно сложно, это отдельная художественная задача.
Вот, собственно, то немногое, что удалось посмотреть. Отмечу напоследок, что не случайно, и не чистого искусства ради завела уважаемого читателя на территорию художественной мистерии, где синтезируются и рождаются мифы и языки, произрастают этносы и правят многомощные «жрецы-имперсоналы» - от режиссера до инвалида. «Мистерия» - условный термин, другого нет. А художественная мистерия - лучшая практическая лаборатория по изучению и воплощению самых глубоких и разнообразных человеческих инсайтов. Она вбирает все возможные парадигмы сознания, обладает мощной силой воздействия и реально преобразует мир.

Плисюк Наталья. Вавилонская башня
20.02.2013










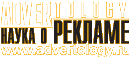
Комментарии
Написать комментарий